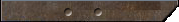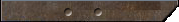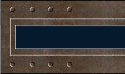|
Ирина Каспэ
Тайна Темной планеты, или Как уверовать в будущее: о «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова
Ирина Михайловна Каспэ (р. 1973) − историк культуры, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В.Полетаева НИУ ВШЭ.(1)
Конечно, основным препятствием на этом пути открыто признается смерть − для описания отношений с ней используется исключительно военная риторика: смерть − «самый страшный и неодолимый враг человека», однако человечество продолжает «вести борьбу», стараясь одержать «победу над временем». Пока победа не одержана, единственным способом нормализации смерти остаются идеи коллективного бессмертия − биологического выживания вида и исторической памяти; в этом смысле индивидуалистичный остров Забвения страшен прежде всего своим выпадением из истории «больших дел», разрывом связи с бессмертным, самовоспроизводящимся обществом. (Любопытно, что в одном из эпизодов романа всеобщего презрения удостаивается персонаж, который не чувствует различия между позитивным и негативным вариантом такого бессмертия − между социально одобряемым «служением обществу» и порицаемым «стремлением к славе».)
В эту логически связную картину легко вписать и планету могильного мрака как очевидную метафору смерти, и тревожную пустоту как свидетельство страха перед неизбежным финалом, однако в романе с той же очевидностью прослеживается и несколько иная, не менее характерная для утопического повествования логика. Человечество эры Великого Кольца борется не только со смертью − столь же изнурительная и безнадежная война объявлена жизни, тем ее формам, которые не поддаются окультуриванию, упорядочиванию и утопизации. Люди будущего вынуждены неустанно «выявлять и уничтожать вредную нечисть прошлого Земли, таинственным образом вновь и вновь появлявшуюся из глухих уголков планеты»:
«Борьба с вредоносными формами жизни никогда не прекращалась. На новые средства истребления микроорганизмы, насекомые и грибки отвечали появлением новых, стойких к самым сильным химикалиям форм и штаммов».
В другом месте романа аналогичная риторика задействуется уже для антропологического описания: негативные рудименты прошлого с неожиданной неподконтрольностью раз за разом самозарождаются, казалось бы, в предельно дистиллированной «прозрачной юной душе»:
«Океан − прозрачный, сияющий, не загрязняемый более отбросами, очищенный от хищных акул, ядовитых рыб, моллюсков и опасных медуз, как очищена жизнь современного человека от злобы и страха прежних веков. Но где-то в необъятных просторах океана есть тайные уголки, в которых прорастают уцелевшие семена вредной жизни, и только бдительности истребительных отрядов мы обязаны безопасностью и чистотой океанских вод.
Разве не так же в прозрачной юной душе вдруг вырастают злобное упорство, самоуверенность кретина, эгоизм животного? Тогда, если человек не подчиняется авторитету общества, направленного к мудрости и добру, а руководится своим случайным честолюбием и личными страстями, мужество обращается в зверство, творчество − в жестокую хитрость, а преданность и самопожертвование становятся оплотом тирании, жестокой эксплуатации и надругательства… Легко срывается покров дисциплины и общественной культуры − всего одно-два поколения плохой жизни».
Инопланетные медузы и черные кресты, безусловно, мортальные, но в своей мортальности следующие биологическим законам («Основная деятельность животной жизни: убивая − пожирать и пожирая − убивать, при соприкосновении животных разных миров проявлялась с удручающе обнаженной жестокостью»), воплощают именно это неустанное ожидание от жизни смертельной угрозы. Тревожная пустота в душе, подразумевающая соприсутствие какой-то иной, чужеродной воли и мешающая в полной мере наслаждаться утопическим счастьем, позволяет понять, как устроен страх перед невыносимой (с идеалистической точки зрения) утратой контроля.
Утопию предлагается воспринимать как место победившего смысла («рациональности», «функциональности» и так далее), в пределе утопия останавливает, замыкает процедуры смыслопроизводства, возвращая вещам их подлинные значения, а значениям − их подлинные имена; в ней не должно оставаться лакун для смысловых излишков и семиотических шумов, для неподконтрольной игры значений(24). В реальной практике − в романе Ефремова − мы видим, как непредсказуемое, непонятное, неподконтрольное вытесняется и искореняется через объективацию и отчуждение. Чужая воля, внешняя темная сила вновь и вновь вторгается в человеческое сознание, демонстрируя тонкость покрова и необходимость усилить защиту, восстановить прозрачную ясность, зафиксировать смысл.
Не случайно, вопреки декларативной идеологии научного поиска, вопреки демонстративному бурлению научных страстей, вопреки постоянным обсуждениям новых экспериментов и новых открытий, ключевой для описания этой кипучей деятельности становится метафора закрытости: разные персонажи ефремовского романа вынужденно останавливаются перед «стальной дверью, за которой скрывается тайна».
Более того, сам коммунистический мир, нацеленный в бескрайние просторы космоса, окружен знаками традиционной для утопии изолированности. Земляне трагически переживают невозможность прямой коммуникации с инопланетными братьями по разуму (межгалактические видеосообщения достигают адресата с зазором в десятилетия и тысячелетия), а единственный на весь роман артефакт внеземного происхождения − чужой звездолет, найденный на все той же Темной планете, − абсолютно герметичен (не обнаружив люков, астролетчики «Тантры» пытаются его вскрыть, словно консервную банку, однако обшивка корпуса тут же самопроизвольно «заваривается» обратно). Хотя светлое будущее и определяется как «эра Великого Кольца», то есть эра вступления в содружество высокоразвитых цивилизаций, во многих отношениях «другие миры» выглядят ненадежными миражами, виртуальными отражениями Земли, неизменно проигрывающими земной, ощутимой, материальной реальности. Так, Мвен Мас, фатально влюбленный в краснокожую инопланетянку, умершую около трех столетий назад, в скором времени узнает ее в своей современнице, земной девушке Чаре Нанди; а прерывистое сообщение «Паруса», возбудившее в Эрге Нооре мечты о далекой сверхутопии, еще более счастливой и утопичной, чем его родина, − «Я Парус, я Парус, иду от Веги двадцать шесть лет… достаточно… буду ждать… четыре планеты Веги… ничего нет прекраснее… какое счастье!» − в конце концов, получает очень приземленную расшифровку: «Четыре планеты Веги совершенно безжизненны. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Какое счастье будет вернуться!»(25)
Герметичными свойствами наделено и прошлое, в глубины которого пытается погрузиться вместе со своей командой археолог Веда Конг:
«Там, у подножия прямых уступов чугунно-серых гор, находится где-то древняя пещера, просторными этажами уходящая в глубь Земли. Там Веда выбирает из немых и пыльных обломков прошлой жизни человечества те крупицы исторической правды, без которой нельзя ни понять настоящего, ни предвидеть будущего».
«Пронизывающе сырой воздух оставался мертвенно недвижным в замкнутом темном подземелье. Только в пещерах бывает такая тишина − на страже ее стоит сама не имеющая никаких чувств мертвая и косная материя земной коры. Наверху, как глубоко бы ни было молчание, в природе всегда угадывается скрытая, притаившаяся жизнь, движение воды, воздуха или света. Миико и Веда невольно поддались гипнозу глубокой пещеры, сокрывшей обеих в черных недрах, точно в глубинах умершего прошлого, стертого временем и оживающего лишь в призраках воображения».
Немое, молчащее прошлое, о котором удается узнать только крупицы истины (да и они, не исключено, лишь призраки воображения), − образ, возможно, близкий самому Ефремову как ученому-палеонтологу, но вместе с тем и очень органичный для придуманной им утопии. При всей одержимости этого общества исторической памятью как формой коллективного бессмертия тема прошлого в значительной мере вводится через фигуры забвения, беспамятства, безымянности. Главному борцу с темпоральностью, Мвену Масу, не дают покоя «миллиарды безвестных костяков в безвестных могилах», «миллионы безымянных могил людей, побежденных неумолимым временем». Хотя утопический ландшафт украшен персональными памятниками − ученому Каму Амату, наладившему прием сигналов из космоса; Жинну Каду, разработавшему способ дешевого изготовления искусственного сахара, − нефикциональная для читателя действительность представлена в мемориальных практиках будущего исключительно в виде коллективных, многофигурных монументов безымянным героям, изо всех сил карабкающимся к коммунизму. Собственно, обитатели утопического мира «не помнят» не только Ленина − они делают хроморефлексные репродукции Левитана, цитируют Максимилиана Волошина и Эдгара По, не заботясь об атрибуции авторства (физикам повезло чуть больше − вскользь упоминаются Гейзенберг и Эйнштейн, но, кажется, это единственные невымышленные имена в «Туманности»).
«У Дар Ветра… прежде была длинная родословная, теперь уже ненужная. Изучение предков заменено прямым анализом строения наследственного механизма, анализом, еще более важным теперь, при долгой жизни».
С устранением семейной истории, заменой генеалогической реконструкции генетической люди воображенного Ефремовым общества и сами лишаются того, что принято понимать под именем в культуре Нового времени − утрачивают родовое имя, укорененное в прошлом и переходящее в будущее. Их односложные, двусоставные, произвольно выбранные имена, подражающие «древним языкам», − своего рода навязчивая, почему-то самоценная игра в этническую идентичность (уже недоступную после многих веков коммунистического интернационализма), ошметки навсегда исчезнувшей речи, мемориальная глоссолалия.
Все это имеет отношение к специфической черте утопического повествования − в utopian studies она описывается как «автореферентность» и «автотелеологичность»(26). Четко прочерченный вектор смысла словно вновь и вновь рикошетит, возвращается назад («Какое счастье будет вернуться!»). Его декларативная устремленность вперед и вверх (из глубин прошлого в высоты будущего) оказывается фикцией, полюса сближаются, движение буксует: космос, воплощая будущее, развитие, жизнь («Необходима работа, более близкая к космосу, к неутомимо разворачивающейся спирали человеческого устремления в будущее»), в то же время определяется как абсолютно чужеродная, враждебная человеку среда, смертоносная тьма («глубочайшая тьма космоса»), наполненная исключительно голосами из прошлого − давно устаревшими сообщениями, отправители которых, вероятнее всего, уже стали «безвестными костяками в безвестных могилах». Собственно говоря, целью освоения космоса (и космической экспедиции, отправляющейся в путь в финале романа) в конечном счете является экспансия, производство новых подобий земной утопии − «осмысленная шаг за шагом поступь человечества по всему рукаву Галактики, победным шествием знания и красоты жизни».
Пространственная метафора, соответствующая этой утопии, − утопии человечества, карабкающегося вверх, к небесам, и при этом твердо убежденного, что «ничего нет прекраснее нашей Земли», − не столько гора или даже спираль, сколько замкнутый круг(27), великое кольцо. И так же устроена здесь космогония: перед нами мир, не имеющий ни конца, ни начала (теория Большого взрыва в романе отвергается), космос представляет собой хаос, хаос представляет собой закон (второй закон термодинамики), упорядоченность возникает из сопротивления этому базовому закону Вселенной, жизнь возникает из смерти, из мертвой материи, смерть − из жизни.
Пытаясь нормализовать «тревожную пустоту в душе», персонажи «Туманности» объясняют ее как эмоциональный рудимент, «память» о глобальном одиночестве человека прежних времен. Веда Конг, подготовленная продолжительными беседами с доброй подругой, психологом Эвдой Наль, успокаивает Низу:
«Должно быть, древняя память о первобытном одиночестве сознания говорит человеку, как слаб и обречен он был прежде в своей клеточке-душе. Только общий труд и общие мысли могут спасти от этого».
Примерно так же рационализирует свои смутно-тревожные впечатления от картины Левитана Дар Ветер:
«И вся гамма синевато-серо-зеленых красок картины говорила о просторах неурожайной земли, где человеку жить трудно, холодно и голодно, где так чувствуется его одиночество, характерное в давние времена людского неразумия. Окном в очень далекое прошлое казалась Дар Ветру эта картина в музее в глубине прозрачной защитной брони, обновленная и подсвеченная невидимыми лучами».
Но настойчивость, с которой воспроизводится такая риторика одиночества − в сопровождении знаков изолированности, замкнутости, − побуждает заподозрить, что речь идет не о рудиментарном, а об актуальном переживании. Вероятно, наиболее экзотичная черта ефремовского текста − сочетание закономерного для утопии антипсихологизма (герои романа однозначно определяются в читательских отзывах как «схематичные», «картонные», «плоские», да и сами они категорически отрицают наличие у них подсознания, разумеется, считая опорный тезис постфрейдистской антропологии «полумистическим») с акцентированным интересом к психологическим способам описания наличной реальности, с размышлениями о скрытых («эмоциональных») ресурсах человеческой психики. Этот странный опыт антипсихологичной психологизации в каком-то смысле позволяет заглянуть внутрь утопии (обычно герметичной, различимой лишь через призму внешнего взгляда) и увидеть то мучительное одиночество «в клеточке» или «за прозрачной защитной броней», на которое обрекает утопическое стремление к абсолютному смыслу. Коллективизм тут, конечно, единственно возможный, но не слишком надежный компенсаторный ресурс; борьба с неподконтрольными формами жизни, с жизнью как таковой, всегда несущей в себе угрозу смерти, превращает идеализацию в спиртовой раствор, в котором консервируется специфическое для утопии промежуточное состояние между жизнью и смертью.
В сущности, утопическое пространство нельзя покинуть. Мертвые в лучшем случае сохраняются в коллективной памяти и обретают новое, мемориальное, гранитное тело, в худшем − утрачивают имя и личную историю, но остаются «костяками в могилах», терпеливо и молча ожидая своих археологов. Путаная на первый взгляд логика Мвена Маса, который оправдывает рискованный научный эксперимент указанием на эти могилы и с нажимом апеллирует к тому, что они «взывают», «укоряют» и «требуют» преодоления времени, становится более понятной в контексте утопизма Николая Федорова и его идеи «воскрешения отцов»(28); нет явных оснований полагать, что Ефремов ее учитывал, но нет и свидетельств против этой гипотезы. Так или иначе, «Вечный покой» Левитана − здесь, пожалуй, единственное и беззаконное «окно» в принципиально другую реальность, в которой смерть не является объектом постоянного преодоления, в которой она понимается как возможность необратимой трансгрессии, как окончательный уход туда, откуда нельзя вернуться.
Луи Марен, подробно разбирая «Утопию» Томаса Мора, обращает внимание на две цитаты, фактически играющие роль эпиграфов к собственно утопическому нарративу (упоминание о том, что эти фразы любил повторять путешественник Рафаил Гитлодей, предшествует его рассказу о благом острове) − «Небеса не имеющих урны укроют» и «Дорога к Всевышним отовсюду одинакова»(29).
«Каждое путешествие и каждый отъезд есть маршрут по направлению к Смерти и к Всевышним»(30), − комментирует Марен, оговаривая, что современный человек защищен от этого знания, коль скоро воспринимает мир изнутри истории и географии, двух дискурсивных модусов, утверждающих различие дорог и вариативность расстояний.
Утопия, согласно Марену, предлагает путешественнику особый опыт − опыт нахождения в мире, одновременно том же самом (расстояние до небес отовсюду одинаково) и принципиально ином.
Но что все-таки произойдет в этом особом пространстве с дорогой к небесам, пусть и понимаемым в исключительно секулярном смысле − как возможность трансгрессии, возможность выхода за собственные пределы к новым горизонтам? Во всяком случае, роман Ефремова, из которого устраняется собственно фигура путешественника, демонстрирует, что замкнутая, закольцованная территория утопии имеет только один выход − в тот мир, в котором она была создана. Ее дальнейшую судьбу в этом мире мы знаем.
P.S.
Строго говоря, «Туманность Андромеды» не первое произведение, реанимировавшее после длительного перерыва образ «дальнего» будущего. В середине 1956 года в журнале «Техника − молодежи» (там же несколько месяцев спустя будет опубликована и «Туманность») печатается текст инженера Льва Попилова, выполненный в популярном в то время жанре «научно-фантастического репортажа», − «2500 год. Всемирная выставка». Выставка достижений народного хозяйства − идеальный топос, позволяющий автору соединить «практичность» (которая предписывалась советской научной фантастике с конца 1930-х годов) и утопию. Получившаяся утопия настолько образцово-тоталитарна, что, кажется, ни на минуту не проговаривается о «вытесненной негативности»: жизнь ее обитателей подчинена строгому распорядку (собственно повествование прерывается постольку, поскольку наступают часы дневного сна), а указ Всемирного совета об ответственности за несоблюдение правил физической и умственной гигиены отменен лишь в 2130 году исключительно потому, что выполнение этих правил становится естественной потребностью каждого человека. Но, пожалуй, наиболее выдающиеся преобразования тут − планетарные. После запуска искусственных солнц на Земле всегда безальтернативно светло (ср. оруэлловское «Мы встретимся там, где нет темноты»); единое для всей планеты время теперь отсчитывают «гигантские цифры», которые проецируются «на голубой шатер небосвода» и оказываются «видны с любой точки земной поверхности невооруженным глазом»(31).
И пока у этого вечного дня не появилось альтернативы в виде планеты абсолютного мрака, пока не обнаружила себя тревожная пустота, указывающая на пределы утопического взгляда, пока ночная сторона этой реальности искусственно устранена − голубой шатер непроницаем и расстояние до небес отовсюду одинаково.
(1) В данной статье использованы результаты проекта «Конструирование прошлого и формы исторической культуры в современных городских пространствах», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.
(2) См., например: «Роман Ивана Ефремова ответил духу времени. Он стал поворотной вехой в истории советской научно-фантастической литературы. Годом его выхода в свет датируется начало самого плодотворного периода в нашей фантастике» (Бритиков А. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970 (здесь и далее цит. по электронной версии:https://lib.rus.ec/b/71949)).
(3) Пожалуй, самый полный свод такого рода правил был изложен в: Иванов С.Фантастика и действительность // Октябрь. 1950. № 1. С. 155−164.
(4) Цит. по: Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне. Опыт академического издания. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 524.
(6) См. об этом: Богданов К. О чудесах и фантастике // Он же. Vox populi: фольклорные жанры советской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 101.
(7) См., например: «Роман Ефремова − один из самых научно убедительных в мировой утопической традиции» (Бритиков А. Указ. соч.); «Этот роман, во многом новаторский, в то же время представляет собой продолжение и развитие в новых общественно-исторических условиях традиционной линии социально-утопической фантастики» (Черная Н. В мире мечты и предвидения: научная фантастика, ее проблемы и художественные возможности. Киев: Наукова думка, 1972 (здесь и далее цит. по электронной версии:www.fandom.ru/about_fan/chernaya_0.htm).
(8) Marin L. Utopiques: jeux d'espaces. Paris: Éditions de Minuit, 1973; здесь и далее цит. по: Idem. Utopics: The Semiological Play of Textual Spaces. New York: Humanity Books, 1990. P. 47−48.
(10) Ruppert P. Reader in a Strange Land. Athens: University of Georgia Press, 1986. P. 12−13. Анализ рецепции утопий см. также в: Roemer K.М. Utopian Audiences: How Readers Locate Nowhere. Amherst: University of Massachusetts Press. 2003 − однако здесь понятие «утопия» понимается, пожалуй, чересчур расширительно.
(11) Цит. по: Бритиков А. Указ. соч.
(12) Berger P.L. A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural. New York: Doubleday, 1969. P. 2; Idem. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion [1967]. New York: Anchor Books, 1990. P. 25−26.
(13) Idem. The Sacred Canopy. P. 26−27.
(15) См. прежде всего: Jameson F. Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London: Verso, 2005.
(16) Idem. Progress versus Utopia, or Can We Imagine the Future? // Idem.Archeologies of the Future… P. 291; см. рус. перев.: Джеймисон Ф. Прогрессversus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 45.
(19) Например: «Никто не может оспорить важности и необходимости коллективного, общественного воспитания для будущего члена общества. И все же представляется, что писатель слишком категорично и просто решил эту проблему, обеднив тем самым мир будущего, чувства и переживания своих героев. Ефремов фактически низводит роль матери до роли кормилицы» (Черная Н. Указ. соч.; здесь же приводятся высказывания других критиков, предъявлявших роману Ефремова «аналогичные упреки»).
(20) Ефремов И. Туманность Андромеды. М.: Молодая гвардия, 1958 (здесь и далее цит. по электронной версии: http://lib.rus.ec/b/158394).
(21) Suvin D.R. Metamorphoses of Science Fiction. New Haven; London: Yale University Press, 1979. P. 285.
(22) Черная Н. Указ. соч.
(23) Об этом см., например: Roemer K.М. Op. cit. P. 26−27.
(24) Подробнее об этом: Каспэ И. Куда делось будущее: утопическое зрение, утопическое чтение и восприятие литературы Стругацких // Пути России. Будущее как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 339−361.
(25) Такого рода дисциплина желания, конечно, весьма характерная для советской фантастики, в значительной степени воспитывалась и подпитывалась специфической идеологемой реалистичной мечты, опиравшейся на ленинские рассуждения о «праве мечтать» и окончательно оформившейся к началу 1950-х. Об этой идеологеме см.: Богданов К. Указ. соч. С. 101.
(26) См.: Jameson F. Archaeologies of the Future… P. 39, 61, 403−404.
(27) О геометрии утопического пространства и, в частности, семантике круга: Marin L. Op. cit.
(28) Благодарю Ксению Зорину, подсказавшую мне этот контекст в частном разговоре о «Туманности Андромеды».
(29) Цит. по: Мор Т. Утопия. М.: Издательство Академии наук СССР, 1953. С. 50.
(30) Marin L. Op. cit. P. 47−48.
(31) Попилов Л. 2500 год. Всемирная выставка. Очерк («Репортаж из будущего») // Техника − молодежи. 1956. № 7. С. 26, 29.
Источник: http://magazines.russ.ru/nz/2015/99/14k-pr.html |